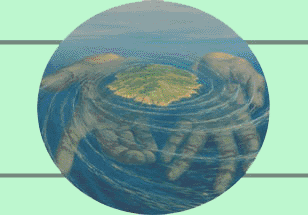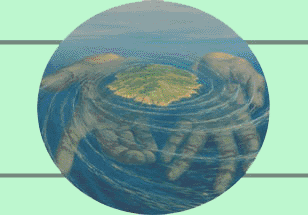В «ДЮЛЬБЕРЕ»
В печаль матерей,
Как в зеркало,
Спешите вглядеться.
Татьяна Калинина.
«Песня о материнской любви»
В детстве все кажется замечательным и неповторимым. От того, как оно прошло и чего в нем было больше, хорошего или не очень хорошего, потом зависит многое. Его свет точно озаряет всю последующую жизнь.
Свет детства, что же это такое?
Когда-то очень давно мы всей семьей приехали к Черному морю. Мама и я поселились по путевке в пансионате «Дюльбер». Это было деревянное, одноэтажное здание барачного типа, с красной черепичной крышей. Сбоку на нем была пристройка-башенка с булавой, вместо шпиля, придававшая корпусу пансионата немного сказочный вид. В «Дюльбере» жили родители, по преимуществу мамы, с тяжелобольными от рождения детьми. Некоторые из этих детишек так же, как и я, совсем не могли ходить.
Моя мама возила меня на пляж и на процедуры, которые назначал врач, — на простой детской коляске с блестящими металлическими подлокотниками. Хотя я из нее уже вырос, но приобрести другую у нас тогда не было возможности. Коляска была удобна тем, что легко складывалась и не занимала много места.
Отец жил на частной квартире. Он приходил утром, после того, как мы завтракали в столовой, — чтобы отвезти меня на грязи в противоположный конец города. А затем проводил с нами весь день.
В центре двора пансионата «Дюльбер» находилась большая круглая клумба-календарь, посередине которой топорщилась темно-зеленая агава с широкими, направленными во все стороны колючими листьями. Очень рано, пока все спали, старый садовник выкладывал на клумбе число и месяц из маленьких растений, похожих на мелкую заячью капусту. Под окнами во дворе зеленели кусты сирени и цвели оранжевые с бордовыми лепестками бархатцы, на которых сидели белые раковинки улиток. Терпкий, приятный аромат цветущих бархатцев потом еще долго связывался у меня с Крымом. Кроме того, здесь росли акации и стояла поистине огромная раскидистая шелковица. Ее необычайно толстый ствол покрывали наросты. Дереву было лет сто, не меньше. Асфальт под ним буквально чернел от множества осыпавшихся спелых ягод. А еще в пансионате работала настоящая испанка, по имени Бланка Ньевес, что в переводе означало Белоснежка. Но так ее, разумеется, никто не называл. Для всех она была просто уборщица тетя Неля.
По утрам слышались гулкие удары мяча. И звонкий девичий голос отрывисто произносил: «Я знаю пять имен девочек: Лена, Люда, Катя, Оля, Света». При каждом ударе называлось имя. «Ребята! Мариша! Маргоша! Ну хватит играть! На море идем!» — торопил кто-то из взрослых так, словно если ребята и Мариша с Маргошей немедленно не отправятся на море, то с морем или с ними наверняка произойдет что-нибудь непоправимое. Во двор выкатывали Вову. Возле него постоянно суетились бабушка и мама. Руки у Вовы не сгибались, а ноги, наоборот, были сведены в коленках. Этот мальчик не разговаривал, его голова всегда была повернута направо, и он не сидел, а полулежал на своей коляске. Толстый мальчик Миша в тяжелых ортопедических ботинках то и дело выкрикивал со скамейки, размахивая костылем: «Огневая точка! Пали!!! Огневая точка! Пали!!!» Саша из Киева, живший по соседству с нами, недавно начал ходить самостоятельно. Сашина походка была напряженной и какой-то изломанной. Он часто падал. Что, впрочем, не мешало моим маме с отцом все время ставить его мне в пример. Остальные дети играли в чехарду и в классы, прыгали через скакалку. Мне очень хотелось подружиться с кем-либо из них. Но поскольку я не мог участвовать в их играх, это было для меня нелегко.
Вот тогда-то мама и стала приносить мне разнообразных жуков и бабочек. Я так увлекался разглядыванием какого-нибудь жучка, что забывал обо всем на свете. Мама открыла передо мною волшебный мир сверкающих перламутровок, пестрых репейниц и адмиралов, величественных махаонов, паривших в воздухе на широких, украшенных хвостами крылышках. Все эти бабочки казались мне чуточку ненастоящими.
Иногда мы с мамой находили уже сухих насекомых, и я осторожно, насколько позволяла моя скованная спастикой правая рука, складывал их в пустую коробку из-под конфет «Ассорти». При этом тонкие усики и ножки все равно неизбежно отламывались. Хорошо помню, как я сказал одному мальчику:
— Смотри, какая у меня коллекция!
— Чепуха это, а не коллекция! — ответил мальчик. — Бабочек накалывать нужно. И под стекло!
Теперь ребята, узнав, что я собираю насекомых, сами подходили ко мне и несли отовсюду гусениц, стрекоз, кузнечиков и даже больших полосатых сухопутных улиток. Когда нас с мамой не бывало дома, они оставляли свою добычу в спичечных коробках на подоконнике нашей комнаты, так как окно всегда было открыто. Частенько мама, взяв чашку, чтобы налить воды из графина, вдруг с недоумением обнаруживала там улитку. А на рукаве своего платья находила рогатую гусеницу бабочки-сфинкса. Надо признать, что она никогда не сердилась, а только очень беспокоилась, как бы ненароком не наступить на какое-нибудь насекомое. Поэтому, придя домой, она первым делом тщательно осматривала комнату и водворяла разбежавшуюся живность в заранее приготовленные баночки. Несмотря на то, что хлопот у мамы прибавилось, она была очень рада, что у меня пробудился интерес к Природе и что теперь мне не так скучно. Отец же, человек резкий и вспыльчивый, не разделял ее восторгов: он считал, что мама должна как можно больше заниматься со мной лечебной гимнастикой и помогать мне поскорей начать ходить. Однако она и так делала для меня в этом отношении все, что только оказывалось в ее силах: по несколько раз в день, помимо методиста, массировала мне спину, растягивала мои непослушные руки и ноги, разрабатывала контрактуры. Отцу хотелось видеть сдвиги в моем физическом состоянии. Но их, увы, не было.
— Вера, мы сюда приехали не жуков ловить, — жестко говорил он. — Знай, что я не железный в конце концов!
При этих его словах мама вся как-то внутренне сжималась, точно они причиняли ей боль. Все, что представлялось мне таким прочным и незыблемым, рушилось в один миг. Я чувствовал, что это из-за меня. В чем моя вина, я не знал. Мне казалось, что я становлюсь полностью беззащитным.
— Алеша, пожалуйста, не сердись на папу, — желая смягчить ситуацию, поникшим голосом, с какой-то принужденной улыбкой говорила мне мама. — Просто он очень хочет, чтобы ты выздоровел... Мы оба тебя очень любим. И все у нас хорошо, правда?
Она будто бы искала у меня поддержки.
Высокое, золотисто-зеленое по вечерам небо, обилие цветов вокруг, пахнущий морем ветер и то, что я почти всегда находился среди ребят, — создавало некую удивительную атмосферу счастья, в которой все печали быстро рассеивались.
Как-то раз мои новые друзья, Сережа и Дима, нашли медведку. Это насекомое напоминало собою не то сверчка, не то крота. Спереди у него торчали длинные усы, а сзади — два тонких хвостика. Я принялся рассматривать причудливое существо и не заметил, как подошел отец.
— Ты все сидишь и смотришь, — сказал он дружелюбным тоном. — Вот взял бы да нарисовал ее. Смотреть-то каждый может.
Он положил передо мной альбом и карандаш. И я, как сумел, изобразил медведку во весь лист бумаги. А сверху большими печатными буквами написал: «МЕДВЕДКА». Причем в буквах «Е», вместо одной черточки посередине, я неизвестно почему поставил сразу целое множество, отчего буквы у меня получились похожими на густые гребешки. Отец остался доволен моим рисунком.
Так, благодаря своему увлечению, я вскоре подружился почти со всеми детьми в пансионате. Но вот в один из вечеров, когда я, как обычно, сидел на коляске возле парадной в окружении склянок с букашками, ко мне подбежала незнакомая черноволосая девочка в светлом платье. Ее глаза с изогнутыми ресницами были лучистыми и приветливыми.
— Давай, Алеша, я тебя покатаю!
— Давай, — согласился я. — А ты откуда приехала?
— Ниоткуда. Я местная. Меня Ира зовут. У меня мама тут врачом работает. Тетя Вера не заругается, что я тебя без спросу катаю?
— Нет, что ты, моя мама добрая.
— Когда завтра выйдешь гулять, позови. Или нет, тебе говорить трудно, — посвисти вот в эту свистульку — и я приду, — сказала Ира на прощание и протянула мне голубую свистульку.
Ира стала приходить к нам каждый вечер. Она читала мне вслух сказки - то про страшного Карабаса-Барабаса, то про Незнайку в Солнечном городе. И я представлял себя то Незнайкой, то Гунькой, то поэтом Цветиком, а Иру непременно — Синеглазкой. Не беда, что глаза у нее были совсем не синие, а карие. Чаще всего она, как и в первый раз, катала меня по двору. С ней было хорошо и весело.
В субботу и воскресенье, когда не нужно было идти ни на массаж, ни на грязи, мы целый день играли вместе. Ире нравилось чертить на асфальте классы и прыгать на одной ножке. А я следил, чтобы все было по правилам. Вдобавок она отлично танцевала. Была ловкой и грациозной. Но иногда в самый разгар игры девочка внезапно садилась на скамейку, а то и просто на траву и долго не могла отдышаться. Почти тотчас кто-нибудь из находившихся поблизости взрослых бежал в ординаторскую со словами: «Галина Андреевна! Вашей Ирочке опять плохо. Идите быстрей». Галина Андреевна появлялась в ослепительно-белом халате, брала дочь за руку, щупала пульс и давала лекарство. Лицо у нее бледнело и становилось встревоженным.
— Я ведь просила не бегать много. Тебе это совсем ни к чему, Иринка, видишь, что получается... Сядьте-ка лучше с Алешей вдвоем мозаику складывать. Алеше пальцы развивать нужно, а ты сердечко свое побережешь.
Мне сразу вспоминалось печальное лицо мамы во время их размолвок с отцом. И делалось совсем горько. Я думал, что, может быть, в том, что Иринке плохо, опять же виноват я.
Как только погода установилась по-настоящему жаркая, отдыхающих пансионата, в том числе и нас с мамой, перевели из корпуса на пляж. Сон на море считался важной лечебной процедурой. Нам выделили топчан под большим навесом. Первое время от постоянного плеска волн уснуть было трудно. И я в изумлении смотрел, как где-то там, вдалеке, на горизонте, по невидимой в черноте ночи морской глади медленно шли, сверкая иллюминацией, большие рейсовые теплоходы. Звезды над ними казались огнями теплоходов. И наоборот, огни теплоходов казались звездами. Приходилось очень сильно приглядываться, чтобы различить, движутся эти огоньки или нет. Поутру нередко море скрывала туманная завеса. Ракушки и белые камешки на берегу были влажными от росы и тумана и поблескивали на еще неярком солнце.
Мой отец, к великой радости детей на пляже, принимался лепить из песка чей-нибудь портрет. Дети выстраивались в длинную очередь позировать. Сходства, конечно, достичь было невозможно, потому что песочные фигуры почти тотчас рассыпались. Зато веселья у детишек было много. Чаще других ребят он лепил меня и, особенно, Иру, которая прибегала на пляж и всегда играла со мной. Она позировала очень охотно и долго. Мне не удавалось спокойно сидеть из-за хаотических непроизвольных движений, возникших в результате болезни. Когда отец показывал ей очередную скульптуру, Иринка хлопала в ладоши, смеялась и подпрыгивала на месте: «Как похоже! А еще можно?!» Отец улыбался и начинал новый портрет.
Несмотря на все трудности и невзгоды, мои воспоминания о тех днях, словно сотканы из множества солнечных бликов и проникнуты светом доброты, иначе светом детства. Например, как-то долговязый Женя, которого ребята в шутку прозвали “Мала Женяха”, запустил воздушного змея, и тот, не успев набрать высоту, спикировал прямо на крышу навеса и прочно застрял там так, что пришлось ставить лестницу и с величайшими предосторожностями снимать его оттуда.
А однажды пошел град. Крупные градины падали в море, и на его тихой поверхности сразу же появлялись мириады крошечных серебристых брызг-фонтанчиков. Потом поднялся ветер, и откуда ни возьмись возник белый вертикальный столб-смерч, который упирался верхним концом в тучи и двигался по морю во всех направлениях с невероятной быстротой. Все, кто был на пляже, перепугались, что он выйдет на берег — такие случаи уже бывали. К счастью, водяной столб исчез так же неожиданно, как и появился.
Для неходячих детей прямо на пляж привозили кино. Это было незабываемо! Экраном служила побеленная стена из камня-ракушечника.
И вот перед моим мысленным взором опять возникает фигура отца. Он держит на руках смеющуюся Иринку. Смотрит на нее пристально и по-особому ласково.
Много лет спустя я снова встретился с Ирой.
Но это уже совсем другая история.
Санкт-Петербург, февраль 1997 года |